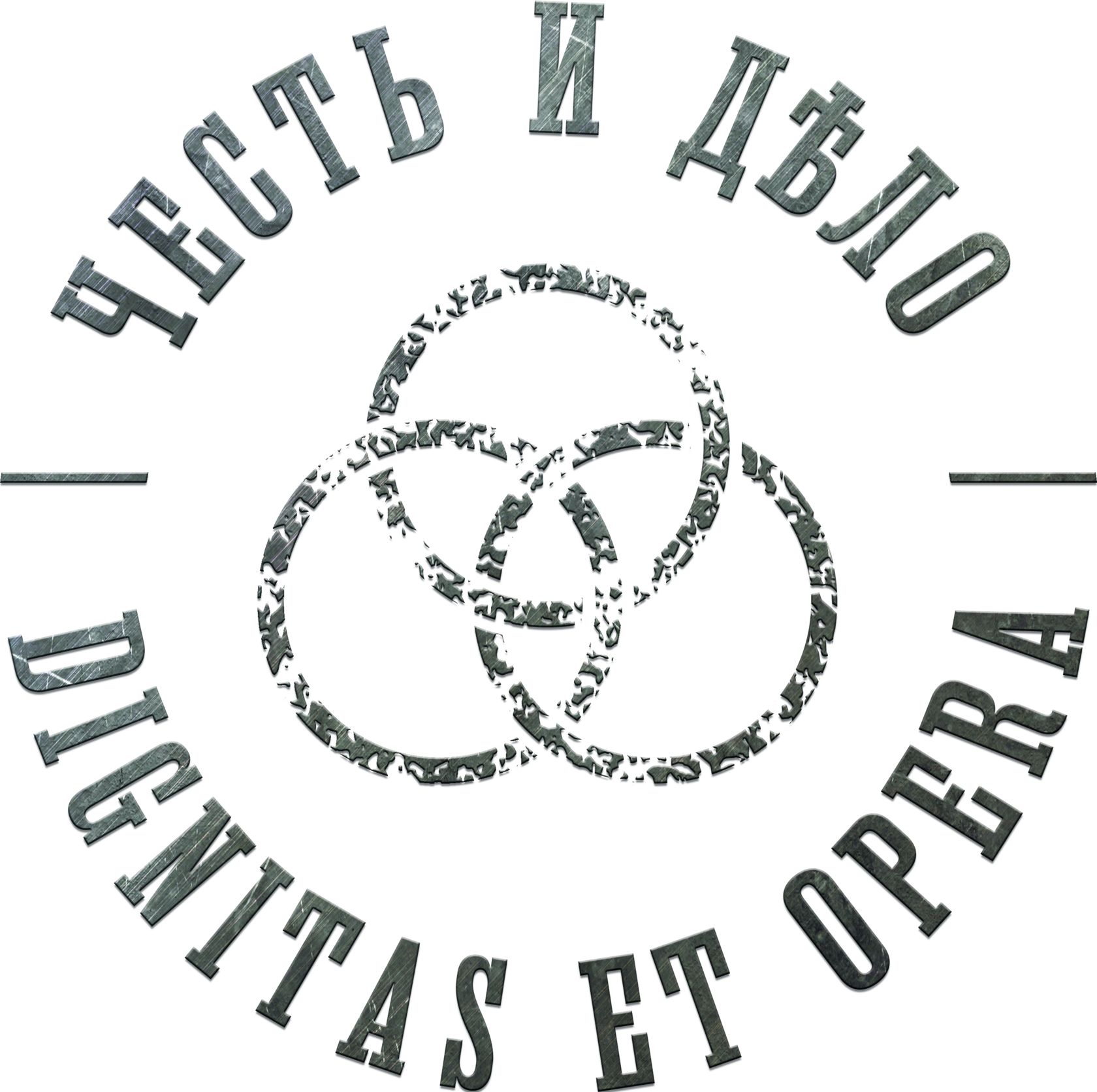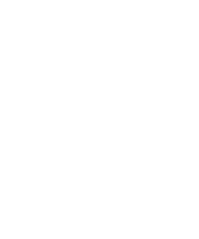
О.С. Муравьёва "Как воспитывали русского дворянина"
Название этой книги может, поначалу, вызвать ироническое отношение своей кажущейся непрактичностью, особенно в стране, где одна из любимых поговорок: "Мы - не баре!". Однако для того-то и нужно знать принципы дворянской культуры, чтобы избавиться от заблуждений по её поводу. Во-первых, эти принципы не выдуманы: они лишь формулируют и закрепляют особенности поведения внутренне благородного и развитого человека, и потому сходны в самых разных странах и культурах (А.С. Пушкин: "Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще). Не суть ли сии качества природные? Так; но образ жизни может их развить, усилить - или задушить"). Во-вторых, Читать далее
Название этой книги может, поначалу, вызвать ироническое отношение своей кажущейся непрактичностью, особенно в стране, где одна из любимых поговорок: "Мы - не баре!". Однако для того-то и нужно знать принципы дворянской культуры, чтобы избавиться от заблуждений по её поводу. Во-первых, эти принципы не выдуманы: они лишь формулируют и закрепляют особенности поведения внутренне благородного и развитого человека, и потому сходны в самых разных странах и культурах (А.С. Пушкин: "Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще). Не суть ли сии качества природные? Так; но образ жизни может их развить, усилить - или задушить"). Во-вторых, Читать далее
В.В. Шульгин "Годы"
Выдающийся государственный деятель и публицист В.В. Шульгин относится к числу "уютных" авторов: прочитав хотя бы одно его произведение, хочется немедленно взяться за следующее, а затем вернуться к первому - чтобы перечитать заново. Это особенность его стиля удивительна, поскольку сохранившиеся произведения Шульгина почти все без исключения связаны с политической жизнью России конца XIX и первой трети XX веков, где драма уступает иногда своё место, но только трагедии. И события, и людей, с которыми свела его судьба в те времена, даже и неприятных, Василий Витальевич описывает обычно с какой-то теплотой. Связано это, возможно, с тем, что он имел возможность сравнивать ту, прошедшую, эпоху с последующими: временем Второй мировой и сталинским Советским Союзом. Прожив два десятилетия после завершения Гражданской войны в эмиграции на Балканах, Шульгин принимает решение не скрываться от наступающих советских войск, хотя и прекрасно понимает, что его - монархиста, белогвардейца и убеждённого антикоммуниста - может ждать на Родине. Предчувствия не обманули: Читать далее
Выдающийся государственный деятель и публицист В.В. Шульгин относится к числу "уютных" авторов: прочитав хотя бы одно его произведение, хочется немедленно взяться за следующее, а затем вернуться к первому - чтобы перечитать заново. Это особенность его стиля удивительна, поскольку сохранившиеся произведения Шульгина почти все без исключения связаны с политической жизнью России конца XIX и первой трети XX веков, где драма уступает иногда своё место, но только трагедии. И события, и людей, с которыми свела его судьба в те времена, даже и неприятных, Василий Витальевич описывает обычно с какой-то теплотой. Связано это, возможно, с тем, что он имел возможность сравнивать ту, прошедшую, эпоху с последующими: временем Второй мировой и сталинским Советским Союзом. Прожив два десятилетия после завершения Гражданской войны в эмиграции на Балканах, Шульгин принимает решение не скрываться от наступающих советских войск, хотя и прекрасно понимает, что его - монархиста, белогвардейца и убеждённого антикоммуниста - может ждать на Родине. Предчувствия не обманули: Читать далее
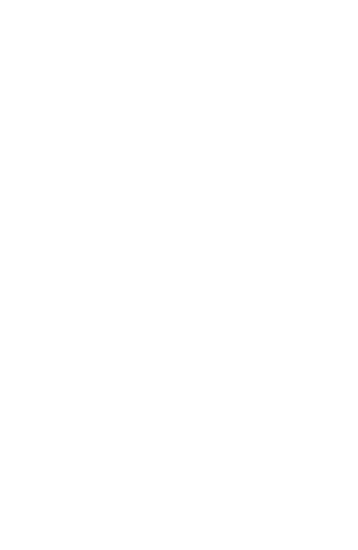
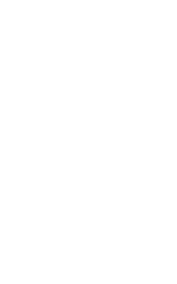
Митрополит Тихон (Шевкунов) "Несвятые святые"
Книга, к настоящему времени почти уже ставшая классикой, посвящена тем временам, когда Православная церковь не была, как сейчас (да и чего уж греха таить - как и до 1917-го года), придушенным в правительственных объятиях "министерством религии", а должна была противостоять гонениям, направленным на её полное уничтожение. И неизвестно, что было хуже: взрывы и расстрелы довоенной поры, или тихое удушение хрущёвско-брежневских времён.
В таких условиях в церкви не могло уже быть случайных людей, а оставались в ней и приходили туда именно они - "несвятые святые". Точнее - Настоящие Русские люди, галерею портретов которых создаёт автор. Им же в книгу заложен такой заряд доброты, тепла и уюта, что её хочется перечитывать и тогда, когда выучил уже почти наизусть.
Книга, к настоящему времени почти уже ставшая классикой, посвящена тем временам, когда Православная церковь не была, как сейчас (да и чего уж греха таить - как и до 1917-го года), придушенным в правительственных объятиях "министерством религии", а должна была противостоять гонениям, направленным на её полное уничтожение. И неизвестно, что было хуже: взрывы и расстрелы довоенной поры, или тихое удушение хрущёвско-брежневских времён.
В таких условиях в церкви не могло уже быть случайных людей, а оставались в ней и приходили туда именно они - "несвятые святые". Точнее - Настоящие Русские люди, галерею портретов которых создаёт автор. Им же в книгу заложен такой заряд доброты, тепла и уюта, что её хочется перечитывать и тогда, когда выучил уже почти наизусть.
А.И. Деникин "Путь русского офицера"
Повествование этой книги заканчивается событиями 1916 года, и совершенно не затрагивает трагических и неоднозначных для многих времён Гражданской войны - поэтому из обширного наследия Деникина-писателя выбрана именно она. Эта часть мемуаров Антона Ивановича посвящена жизни и нравам Императорской армии и её офицерства во второй половине XIX и начале XX веков - от юнкеров до генералов и командующих армиями. А ещё в ней немало интересного: о жизни провинциального польского городка и маньчжурских деревень, о Пилсудском и Николае II... А также, глазами непосредственного участника - о ходе боевых действий в Японскую и Первую Мировую войны. Всё это в неизменном деникинском стиле: точно, умно, непредвзято и с юмором. И что ещё важнее: без привычных штампов и столь же многим привычного советского вранья.
Интересные факты об А.И. Деникине:
- решение о зачислении его в офицеры Генерального штаба сопровождалось скандалом, сотрясшим всё военное ведомство - вмешаться в него пришлось даже царю;
- поляк по матери, Деникин провёл детство и молодые годы в Польше, свободно владел польским языком;
- прекрасно знал математику: получал по математическим дисциплинам высшие баллы во всех заведениях, где учился.
Цитаты:
"... когда во время революции митинговые ораторы большевистского лагеря причисляли к буржуазии, ими ненавидимой и истребляемой, офицерство, это была неправда: русский офицерский корпус в главной массе своей принадлежал к категории трудового интеллигентного пролетариата"
"... На вторичное мое обращение штаб запросил — «знаю ли я английский язык»? Ответил: «Английского языка не знаю, но драться буду не хуже знающих»..."
"... Нет сомнения, что самодержавно-бюрократический режим России являлся анахронизмом. Нет также сомнения, что эволюция его наступила бы раньше, если бы не помешало преступление, совершенное в 1881 году... Это преступление на четверть века задержало эволюцию режима"
Повествование этой книги заканчивается событиями 1916 года, и совершенно не затрагивает трагических и неоднозначных для многих времён Гражданской войны - поэтому из обширного наследия Деникина-писателя выбрана именно она. Эта часть мемуаров Антона Ивановича посвящена жизни и нравам Императорской армии и её офицерства во второй половине XIX и начале XX веков - от юнкеров до генералов и командующих армиями. А ещё в ней немало интересного: о жизни провинциального польского городка и маньчжурских деревень, о Пилсудском и Николае II... А также, глазами непосредственного участника - о ходе боевых действий в Японскую и Первую Мировую войны. Всё это в неизменном деникинском стиле: точно, умно, непредвзято и с юмором. И что ещё важнее: без привычных штампов и столь же многим привычного советского вранья.
Интересные факты об А.И. Деникине:
- решение о зачислении его в офицеры Генерального штаба сопровождалось скандалом, сотрясшим всё военное ведомство - вмешаться в него пришлось даже царю;
- поляк по матери, Деникин провёл детство и молодые годы в Польше, свободно владел польским языком;
- прекрасно знал математику: получал по математическим дисциплинам высшие баллы во всех заведениях, где учился.
Цитаты:
"... когда во время революции митинговые ораторы большевистского лагеря причисляли к буржуазии, ими ненавидимой и истребляемой, офицерство, это была неправда: русский офицерский корпус в главной массе своей принадлежал к категории трудового интеллигентного пролетариата"
"... На вторичное мое обращение штаб запросил — «знаю ли я английский язык»? Ответил: «Английского языка не знаю, но драться буду не хуже знающих»..."
"... Нет сомнения, что самодержавно-бюрократический режим России являлся анахронизмом. Нет также сомнения, что эволюция его наступила бы раньше, если бы не помешало преступление, совершенное в 1881 году... Это преступление на четверть века задержало эволюцию режима"
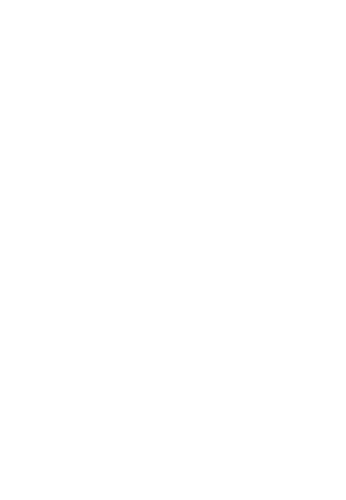
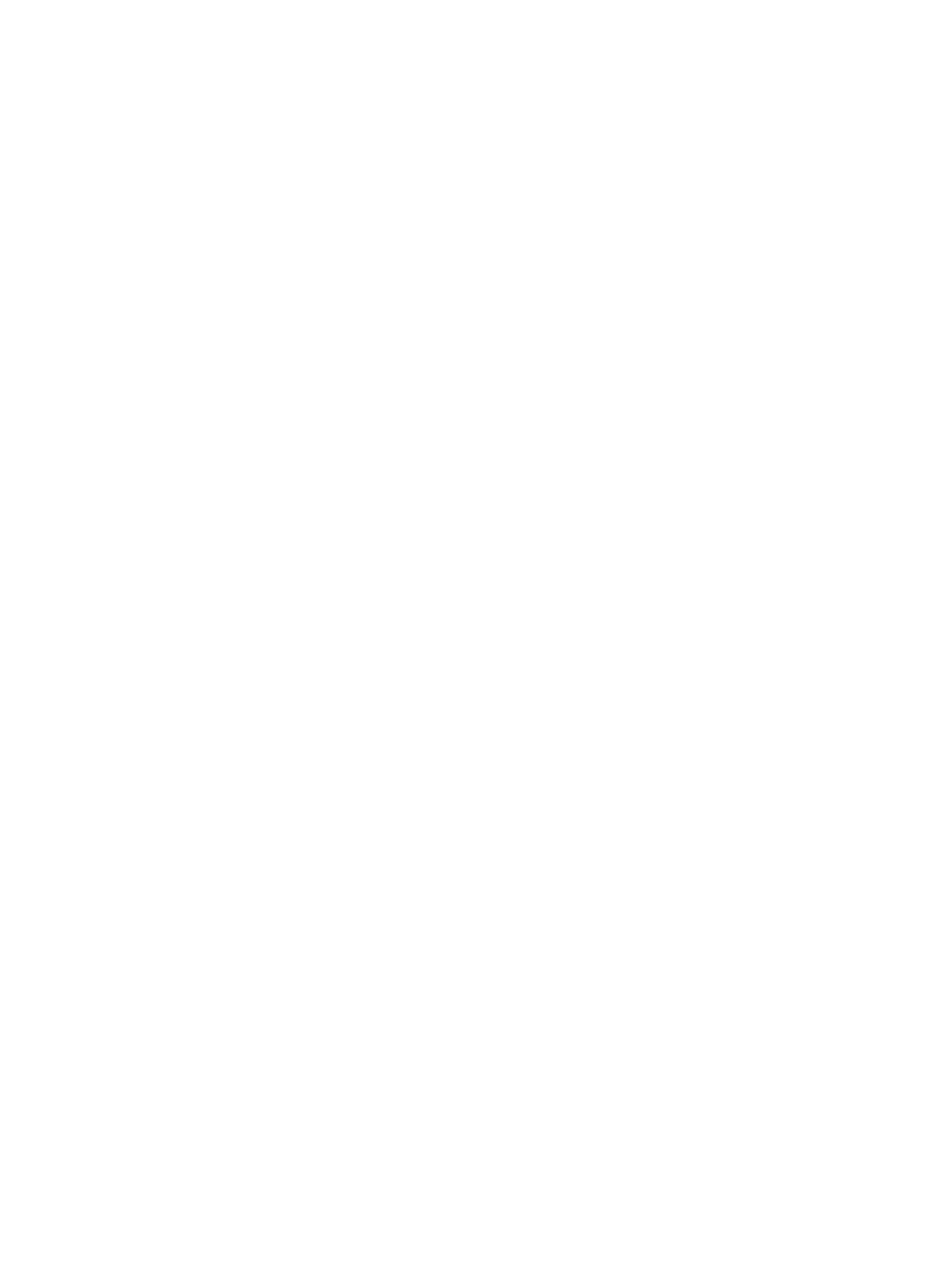
Ф.Д. Стенхоп, граф Честерфилд "Письма к сыну"
Письма графа Честерфилда своему сыну Филипу были написаны в первой половине XVIII столетия, когда русская беллетристика и публицистика только зарождались, а потому никакого русского - ни двести пятьдесят лет назад, ни сейчас - не должно смущать их иностранное происхождение.
Говоря серьёзнее, нельзя не признать, что это произведение - настоящий кладезь житейской мудрости и подлинно аристократических представлений о жизни, сформулированных афористически точно. Вольтер считал сборник писем Честерфилда, которые тот никогда не собирался публиковать и не публиковал при жизни, лучшим из написанного о воспитании.
Граф Честерфилд использовал не только собственный жизненный опыт, но и богатое наследие античных авторов, с которыми он был прекрасно знаком ("... потому что латынь знает всякий и не знать ее - стыд и срам") - и делится этим знанием с современными читателями, не каждый из которых согласится с тем, что Читать далее
Письма графа Честерфилда своему сыну Филипу были написаны в первой половине XVIII столетия, когда русская беллетристика и публицистика только зарождались, а потому никакого русского - ни двести пятьдесят лет назад, ни сейчас - не должно смущать их иностранное происхождение.
Говоря серьёзнее, нельзя не признать, что это произведение - настоящий кладезь житейской мудрости и подлинно аристократических представлений о жизни, сформулированных афористически точно. Вольтер считал сборник писем Честерфилда, которые тот никогда не собирался публиковать и не публиковал при жизни, лучшим из написанного о воспитании.
Граф Честерфилд использовал не только собственный жизненный опыт, но и богатое наследие античных авторов, с которыми он был прекрасно знаком ("... потому что латынь знает всякий и не знать ее - стыд и срам") - и делится этим знанием с современными читателями, не каждый из которых согласится с тем, что Читать далее
К.С. Попов "Воспоминания кавказского гренадера"
В отличие от других людей Серебряного века, чьи книги представлены в данной подборке, Константин Сергеевич Попов не был выдающимся политическим или военным деятелем: Гражданская война застала его в чине капитана. Не был Попов, в отличие от Деникина и Шульгина, признанным в императорской России литератором и публицистом: он обратился к этому роду деятельности лишь в эмиграции. Возможно, именно поэтому его рассказ о событиях 1914-1920 годов отличается особенной простотой и естественностью, это взгляд на события "снизу", своего рода "окопная правда". Герой мемуаров не подводит под свои действия глубоких теоретических основ, но ему и в голову не приходит поступить иначе, чем он поступает. Разве мыслимо было, например, получив тяжелое ранение или едва не умерев от тифа не вернуться тут же в строй? Можно ли было останавливаться перед тем, чтобы арестовать знаменитого эсера Савинкова, посланного на разваливающийся фронт самим Керенским? И нужно ли было долго выбирать: примкнуть ли к Добровольческой армии, погрузившись немедленно в кровавый хаос, или остаться в относительно спокойной тогда (и почти родной для него) Грузии? Попов не рассуждает, а просто делает то, что велит ему порядочность, любовь к своей стране и офицерская честь: возможно, с такими опорами и самое трудное решение даётся легче?
В отличие от других людей Серебряного века, чьи книги представлены в данной подборке, Константин Сергеевич Попов не был выдающимся политическим или военным деятелем: Гражданская война застала его в чине капитана. Не был Попов, в отличие от Деникина и Шульгина, признанным в императорской России литератором и публицистом: он обратился к этому роду деятельности лишь в эмиграции. Возможно, именно поэтому его рассказ о событиях 1914-1920 годов отличается особенной простотой и естественностью, это взгляд на события "снизу", своего рода "окопная правда". Герой мемуаров не подводит под свои действия глубоких теоретических основ, но ему и в голову не приходит поступить иначе, чем он поступает. Разве мыслимо было, например, получив тяжелое ранение или едва не умерев от тифа не вернуться тут же в строй? Можно ли было останавливаться перед тем, чтобы арестовать знаменитого эсера Савинкова, посланного на разваливающийся фронт самим Керенским? И нужно ли было долго выбирать: примкнуть ли к Добровольческой армии, погрузившись немедленно в кровавый хаос, или остаться в относительно спокойной тогда (и почти родной для него) Грузии? Попов не рассуждает, а просто делает то, что велит ему порядочность, любовь к своей стране и офицерская честь: возможно, с такими опорами и самое трудное решение даётся легче?
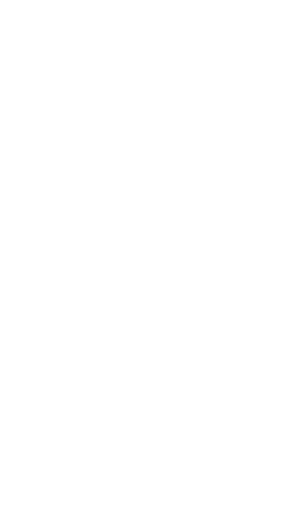
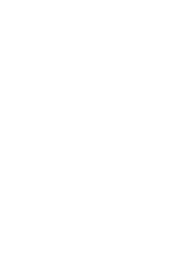
П.Н. Милюков "Воспоминания"
Книга воспоминаний выдающегося историка и политического деятеля непроста для чтения: об этом упоминают все её комментаторы, и едва ли не в первую очередь. Но достоинством "Воспоминаний" является то, что их можно начать читать с любого места и, осилив несколько десятков страниц, убедиться в следующем:
Настоящий Русский человек может быть: 1) блестящим профессионалом своего дела, известным далеко за пределами России; 2) человеком мира, знающим множество языков, свободно и уверенно путешествующим по любым странам; 3) оппозиционером, бесстрашно противостоящим власти; 4) защитником Читать далее
Книга воспоминаний выдающегося историка и политического деятеля непроста для чтения: об этом упоминают все её комментаторы, и едва ли не в первую очередь. Но достоинством "Воспоминаний" является то, что их можно начать читать с любого места и, осилив несколько десятков страниц, убедиться в следующем:
Настоящий Русский человек может быть: 1) блестящим профессионалом своего дела, известным далеко за пределами России; 2) человеком мира, знающим множество языков, свободно и уверенно путешествующим по любым странам; 3) оппозиционером, бесстрашно противостоящим власти; 4) защитником Читать далее
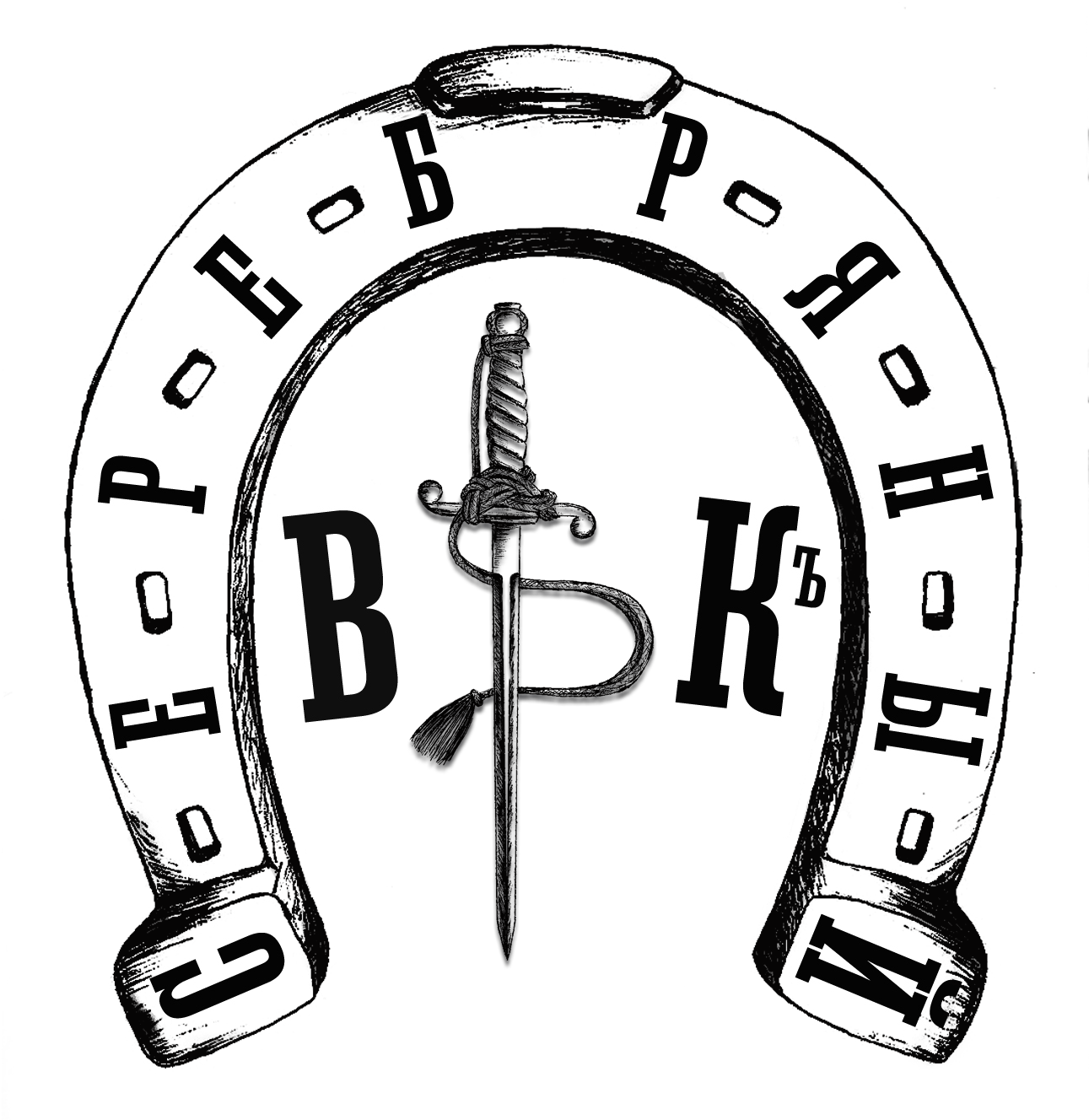
Связаться с нами:
dignitasetopera@mail.ru
dignitasetopera@mail.ru